В разгар карантина я осталась без дома. Все началось банально, как всегда: я громко хлопнула дверью на кухню, после чего отец меня избил.
Не могу вспомнить, когда нас начали бить, кажется, тумаки по голове за нерешенные задачки сопровождали с детства. Это был главный метод воспитания — если ты не мог с чем-то справиться, делал очень долго, в конце концов, просто проявлял признаки жизни, на тебя кричали, обзывали тупой дурой, неспособной сделать что-либо нормально, и, конечно же, били. Я была плоха в естественных науках, а на меня в этой сфере возлагали слишком много надежд — отец был хорошим физиком и хотел, чтобы я тоже им стала.
Старшим сестрам было по шестнадцать лет, когда они ушли из дома: они плохо учились, ненавидели неродного отца, им доставалось больше всех. Мы с младшей сестрой часто наблюдали, как они отчитывались по сделанным урокам, стоя перед отцом, пока он лежал на кровати — традиционная его поза для приема детских «отчетов». Так же отчитывались и мы. Я слишком хорошо помню это долгое стояние в дверях, особенный, застывший голос, напряженное состояние, будто перед прыжком, уши ловят малейшее неудовольствие в его интонациях, и висячие безжизненные руки, которые разве что не отдавали честь.
Все мое детство было наполнено застывшим страхом. Я пыталась его преодолеть — огрызалась, отвечала на оскорбления и мощные удары мужских рук и ног. Мать не могла помешать отцу бить нас — он бил и ее.
Никто и никогда в семье это не обсуждал. Мы с младшей сестрой не успокаивали друг друга после очередных ссор и избиений — никогда об этом не говорили, даже спустя годы. Каждая из нас переживала это запертой в собственных мыслях и чувствах, без возможности поговорить хоть с кем-то. Мы никогда не были близки, и этот травматический опыт не сплотил нас, а напротив, разделил окончательно — она продолжает общаться с отцом, как будто всего этого никогда не происходило, как будто все это сон, и я не знаю, что она думает и чувствует на этот счет.

В школе у меня практически не было друзей: я была — и где-то внутри до сих пор остаюсь — забитым и стеснительным ребенком, которого отделяет от других людей пропасть отчуждения и одиночества. Разве можно понять меня — грустного, нелюдимого, мрачного и запуганного зверька? Разве могу я кому-то понравиться? Достойна ли я общаться с другими людьми? Я не верила в это. От опыта систематического, повторяющегося, длительного насилия невозможно избавиться — я представляю это как клеймо, которое влияет абсолютно на всю мою жизнь. Многое мне дается с трудом: дружба, любовь, вообще любые близкие отношения — у меня нет ни примера, как их необходимо выстраивать, ни инструментов, ни даже понимания, зачем. Потому что в моем мире человеческие отношения — по большей части крайне травмирующее, бессмысленное и разочаровывающее предприятие.
На третьем курсе университета у меня развилась тяжелая клиническая депрессия — я поправилась на пятнадцать килограммов, не могла вставать по утрам, ходить на учебу и воспринимать слова преподавателей. Я сидела дома, ненавидела себя и ела, ела, ела, запихивая в рот еду и надеясь, что это поможет. Никто вокруг как будто ничего не видел — мать считала, что я просто ничего не хочу в жизни, отец называл лентяйкой и полной дурой, я плакала и писала немногочисленным друзьям, что хочу умереть. Друзей от этого больше не стало.
Я хорошо помню пограничный момент, когда наши разборки с отцом практически прекратились — но как бы я себя ни обманывала, конечно же, лишь на время. Это очень просто и банально — триггером стала моя челка, я попросила отца ее подрезать. Он хорошо стриг волосы.
— Ровнее. Можешь подстричь тут и сделать ровнее?
— Где?
— Ну вот тут, челка получилась кривая, отрежь ровнее. Нет, ну разве не видишь, нужно еще ровнее.
Ровный удар по голове. Потом еще — такой же ровный. И вот еще один безупречный удар. Мой отец — перфекционист.
Почти два года я жила с ним в одной квартире и мы не разговаривали. Совсем. Это было самое тяжелое и мрачное время в моей жизни, которое, как мне казалось, не закончится никогда. Парадоксально, но мне стало хуже, хотя побои на довольно долгий период прекратились, разговоры о моей полной никчемности — тоже. С тех пор еще несколько лет мы просто делили жилплощадь.

Последний год я жила у родителей — сначала пошла на понижение зарплаты ради интересной работы в сфере культуры, а потом тратила большую часть финансов на частые полеты в Европу. Я практически не бывала дома, с отцом мы почти не сталкивались. Самоизоляция изменила этот хрупкий баланс сил, и началась борьба за пространство. В тот вечер оно сжалось в точку.
Две недели назад я ложилась спать, надеясь выспаться перед утренней сменой на работе, на кухне громко звучала опера — отец очень любит оперу. Я сходила на кухню и попросила сделать потише, а потом написала два сообщения в Вотсап. Опера стала еще громче. Как потом оказалось, я слишком громко хлопнула кухонной дверью — этого было достаточно, чтобы отец начал надвигаться на меня с кулаками, а я защищаться с ножами в руках.
Что в первую очередь делает человек, бьющий другого человека? Он ищет руками горло, чтобы ты не кричал. Сдавливает, пытаясь контролировать вопли. Я впервые за много лет увидела лицо отца вблизи — его губы сжаты, он так всегда делает, когда бьет. И это привычное, отработанное движение руками. Мать проснулась, вышла из комнаты, но сделать ничего не смогла — ни ударить его, ни разнять нас, она просто стояла рядом — абсолютно беспомощная. Пара ударов тут, пара ударов там — я иду на кухню и беру ножи.
Вслед меня обвиняют во всем: я проколола нос (я тебе сейчас вырву эту штуку из носа), я сделала татуировки (зачем ты себя изрисовала, кому ты хочешь что-то доказать, я тебе их сейчас сотру), я психованная (да тебе никто не поверит, я упеку тебя в дурку), я плохая дочь, я плохой человек. Я пытаюсь вызвать полицию, но у меня отнимают телефон, потом у матери, дверь закрывают на ключ, ключи убирают в карман, я заперта. Я успела написать другу, он пытается дозвониться до участка, будучи в другой стране, и единственное, что я не успеваю ему написать, — это код от подъезда. Мне отрубают интернет.
Может быть, поэтому полицейские так и не пришли? Потому что не знали код от подъезда? Им звонили дважды, объясняли, что у меня нет телефона, что я заперта в квартире и не могу выйти на связь, но они так и не пришли. «Отдам телефон, когда успокоишься», — говорит мне отец. Я захожу в свою комнату и открываю окно — единственный выход из этого пространства в какое-то другое, может быть, получше, а может быть, и нет. Но смелости у меня не хватает, я слишком боюсь высоты.
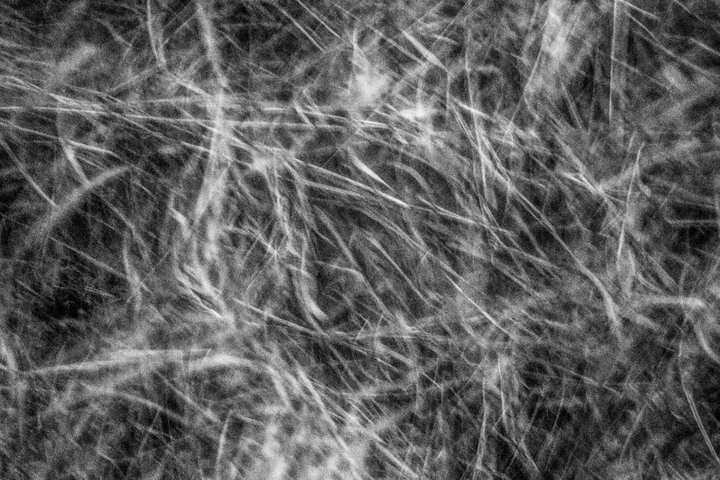
Ночь — это медленный кошмар наяву. Я не помню, в какой момент у меня начала идти кровь из носа. Не помню, что кричала — орала много чего и до хрипоты. Не помню, как прокусила губу или когда у меня появился кровоподтек на лице, я помню лишь какой-то клубок тел и отчетливо помню ножи. Я иду на кухню за одним, его у меня в борьбе отнимают, я иду за другим — отнимают и его, я иду туда в третий раз и беру сразу несколько, какие-то прячу под подушку и так и сплю с ними до утра. В середине ночи ко мне возвращается телефон — на условии, что «со своими детскими глупостями» я в полицию не пойду.
Я уехала к знакомым следующей ночью. Мое тело ужасно болело, оно рассыпалось с каждым шагом. Я собрала все, что могла дотащить до двери, в чехол от велосипеда и четыре сумки, сделала пропуск и заказала такси.
Первый вопрос, который задал мне человек, впоследствии принявший меня: «Почему ты вообще там находилась, почему допустила это?» Несколько дней после последнего избиения, после этой новой точки отсчета, после обнуления я находилась как в аквариуме — все воспринималось будто через большое, толстое стекло, я не слышала половину того, что мне говорили или писали друзья. Этот вопрос вырвал меня из полотна ирреальности, шум в ушах впервые прекратился, и я начала оправдываться. Я так и не смогла избавиться от чувства вины — ведь даже тут оказалась виновата.



